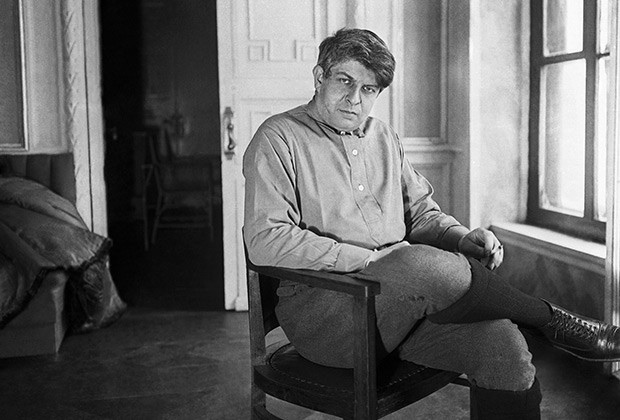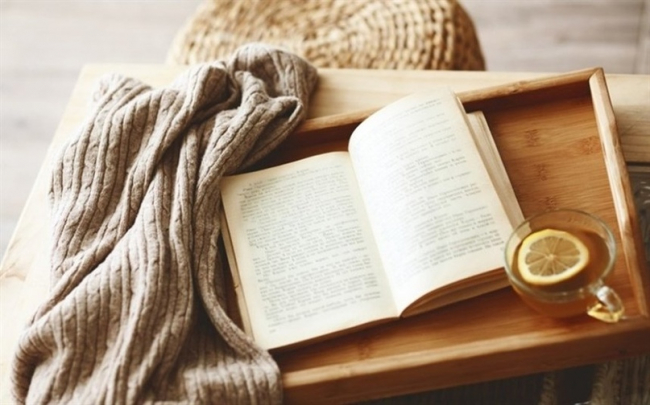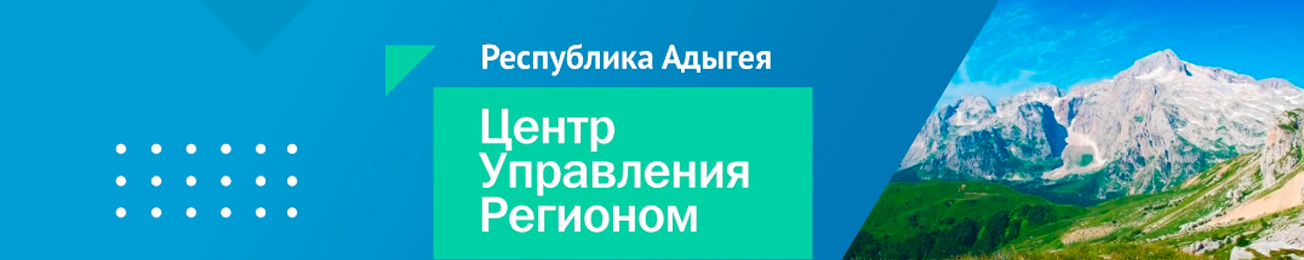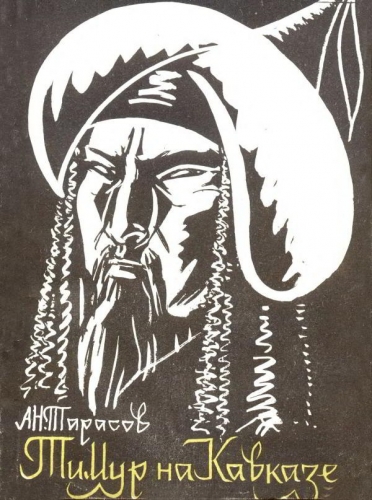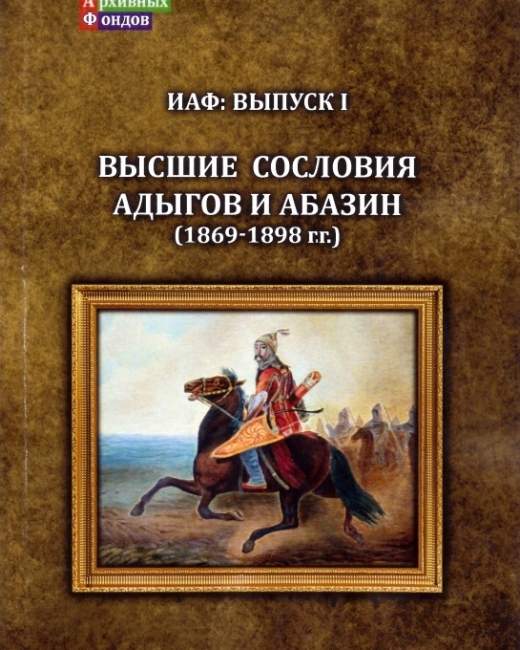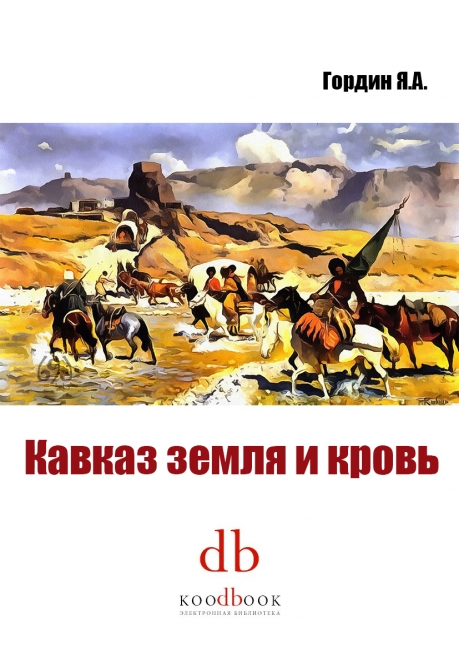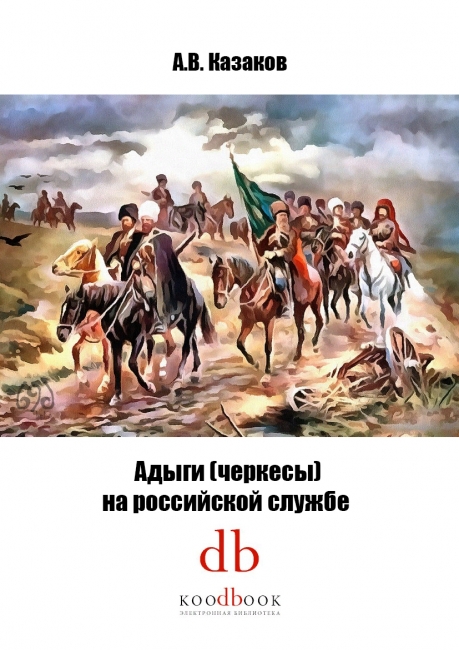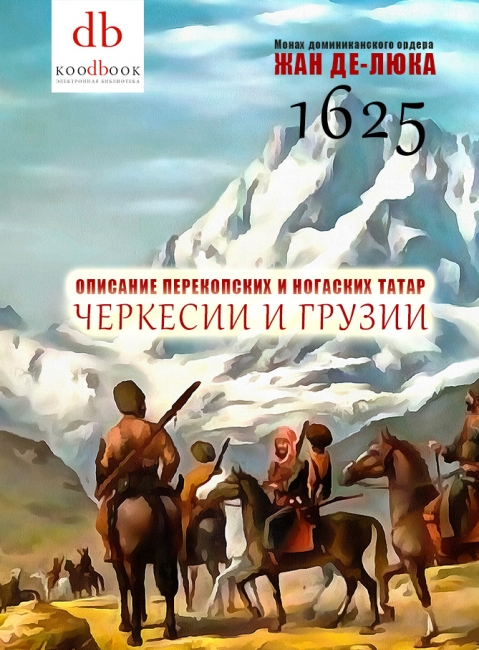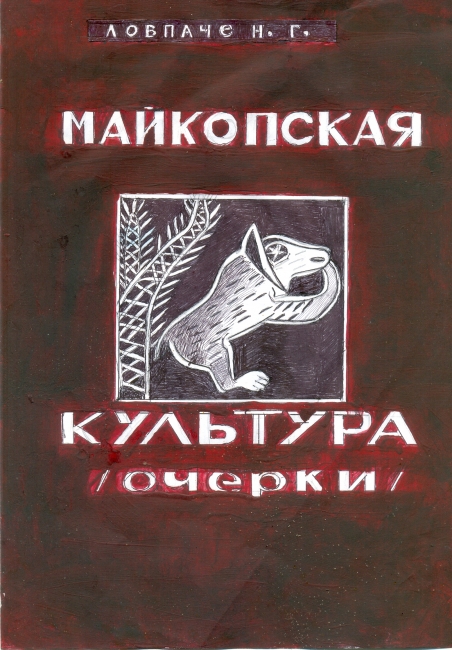Романтизм: поэзия декабристов. Часть 1.
Иногда бывает весьма полезно посмотреть на то или иное явление в целом с самой высокой точки зрения, обозреть его как можно полнее.
Начало 19 века – это и начало русской классической литературы, начало Золотого века эта литературы. Давайте посмотрим, как оно рождалось.
Вот они, годы рождения русской литературы:
1799 год – Пушкин
1803 год – Тютчев
1809 – Гоголь
1811 – Белинский
1812 – Гончаров и Герцен
1814 – Лермонтов
1818 – Тургенев
1820 – Фет
1821 – Достоевский, Некрасов
1823 – Островский
1826 – Салтыков-Щедрин
1828 – Толстой
Подсчитано, что у всех великих русских писателей матерью могла бы быть одна и та же женщина, если бы, скажем, она родила Пушкина в 17 лет, то в 46 она вполне могла бы родить Толстого.
Вы, должно быть, обратили внимание на это необыкновенное сгущение имен. Всё это не случайно, всё это связано с судьбою русской классической литературы и с тем выбором, который совершила русская литература в литературе мировой.
Александр Андерсон сказал, что на реформы Петра Россия ответила явлением Пушкина. Вот Пушкин осуществлял этот выбор, эту столбовую дорогу, mainstream, как сейчас бы сказали, русской классической литературы, и вслед за ним литература пошла по этому пути.
Обратимся к началу 19 века. Пушкин в своем стихотворении «К вельможе» пишет:
Падение всего, союз ума и фурий,
Свободой грозною воздвигнутый закон,
Под гильотиною Версаль и Трианон
И мрачным ужасом смененные забавы.
Преобразился мир при громах новой славы».
Пушкин как всегда точен, но здесь эта пушкинская гармоничная точность обращается упором на одно: понять. Все изменилось, падение всего, преобразился мир, что это были за изменения? Они вполне конкретны: падение всего, вихорь бури – вот перед нами взятие Бастилии, 1785 год, 1789 год – Великая французская революция. Свободой грозною воздвигнутый, падение всего, союз ума и фурий – представьте себе знаменитую картину Давида «Свобода на баррикадах». Фурии – женщины, которые сыграли в Великой французской революции немалую роль, ум – это разум, просветители – это те идеи, которые бродили в европейском обществе, которые, в конечном счете, привели к революции.
Свободой грозною воздвигнутый закон – это, скорее всего, декларация прав человека, декларация, которая по сию пору лежит в основе всей той цивилизации, всей той культуры, которая пришла в Европу после Великой французской революции.
Под гильотиною Версаль и Трианон – это та гильотина, изобретение доктора Гилье, которая так много сделала в эпоху французской революции. Как раз о ней идет речь дальше у Пушкина. И мрачным ужасом смененные забавы – это террор, который начался во Франции и который поначалу, казалось бы, ничто не должно было предсказать. Однако есть такой факт: свое первое выступление на Национальном собрании Робеспьер посвятил абсурдности смертной казни и её несоответствие общественному договору. Об этом расскажу чуть-чуть больше.
В 18 веке существовало две концепции власти: первая – это власть сакральная, та власть, которая дается от Бога и которая, по сути дела, является некой вертикалью, обращенной в вечность, и вторая – идея общественно договора между монархом и подданными. Условия договора лежат в основе жизни общества, и из-за того, что договор между властью и народом заключён не навсегда, и народ, подданные, имеет право либо ограничить власть, либо, если властитель превращается в тирана, сместить его. Вот, собственно, основа идеи Великой французской революции. Эта идея не только европейская, общественные договоры были весьма популярны и в России, среди русских властителей. Как иначе можно было мотивировать все те многочисленные перевороты, которые происходили у нас в 18 веке? Но вместе с тем эта идея – одна из основных исторических концепций, которые лежали в основе всего общественного миропонимания 18 века.
Но стихотворение Пушкина не кончилось последней строчкой «преобразился мир при громах новой славы». Здесь речь идет, конечно же, о Наполеоне. Мы себе ясно представляем фигуру Наполеона, но, пожалуй, только в последнее время мы стали понимать, какую роль он сыграл не только в истории России в войне 1812 года, но и в истории русской литературы.
Интересно то, что произошло во Франции после Великой французской революции, после прихода к власти Наполеона. Всех действительно поразило падение всего. Наполеон – человек, вышедший из неизвестности, поднявшийся на самую вершину власти. Маленький человек, человек, который предпочитал в обиходе серый сюртук, а когда он был на поле битвы, то одевал мундир полковника. Так вот этот серый человек вдруг стал императором одной из самых могущественных стран.
Вообще о Наполеоне писали все наши герои: о Наполеоне писал Лермонтов, о Наполеоне писал Тютчев, писали декабристы. Идеи Наполеона оставались актуальными для Толстого и Достоевского, для многих поколений русских людей. Вот что характерно: по сию пору в клиниках для душевнобольных очень часто встречаются Наполеоны, и каждый человек ощущает себя причастным тому миру неизвестности, которому принадлежал Наполеон. Каждому человеку порой хочется стать Наполеоном, и это сыграло свою роль и в общественной мысли России, и в истории России, и в истории декабризма, и в истории литературы.
Тема «маленького человека» складывалась в русской литературе не без влияния этого образа, формы. Но Наполеон – это и отечественная война, это Бородино, это жертва Москвы и, конечно же, значение пожара Москвы, значение великой жертвы, которой была куплена победа. Только совсем недавно как-то установили удивительную связь между двумя битвами, сыгравшими решающую роль в истории России: между Куликовской битвой и Бородинским сражением. Эту аналогию провел академик Починской. На самом деле тогда, во время Куликовской битвы, битва как бы не привела к реальным результатам. Победили русские, но спустя короткий период времени татары опять захватывают Москву, и пришлось в течение долгого столетия ждать, когда, наконец, татаро-монгольское иго будет свернуто. То есть победа была сомнительна. Обстановка обеих битв тоже удивительно совпадает: как известно по повестям куликовского цикла, в русском лагере была тишина и молитва перед битвой, в татарском лагере раздавался шум и победные крики. То же самое было и при Бородине. Вспомним описание Бородинской битвы у Толстого, вспомним, какая тишина царила в русском лагере, вспомним, как ликовали французы, предвкушая победу. И опять же итог: какая же эта победа, когда после этого взята старая столица России?
Это очень важно, потому что идея «жертвы» еще со средних веков всегда присутствует у русской истории. Например, у Пушкина в «Воспоминаниях в Царском селе» есть такие строчки:
Со старшими мы братьями прощались,
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас…»
Один из критиков заметил странные строки: немец написал бы «побеждать», «завидуют тому, кто побеждать шел мимо нас». Странно, как можно завидовать тому, кто идет на смерть? Но вместе с тем это весьма характерно для России. Так вот декабристы, а именно о них у нас пойдет речь, они были воспитаны всеми этими событиями.
Продолжение следует...
Источник
Читайте также: